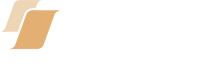3.5 Кто такие ангелы?
Смотрим
Читаем
1. Одиноки ли мы во Вселенной?
Священное Писание многократно упоминает о том, что кроме людей в созданном Богом мире обитают и другие существа — бесплотные духи, или ангелы. Само слово «ангел» происходит от древнегреческого «ἄγγελος» и означает «посланец», «вестник». Этот термин указывает лишь на определённую функцию, ничего не говоря об ангельской природе.
Читать далее2. Люди и ангелы: кто важнее?
Из того, что Библия говорит об ангелах, можно прийти к выводу, что они — существа более совершенные, чем люди. Они бессмертны, могущественны, близки к Богу. Тем не менее, у христианских авторов неоднократно встречается мысль о том, что в замысле Бога люди стоя́т выше ангелов.
Читать далее3. Кто такой сатана?
Ангелы были созданы наделёнными свободной волей. Свобода ангелов, вероятно, значительно превосходит свободу человека, зависимого от окружающего контекста. И хотя все ангелы были сотворены Богом добрыми, некоторые из них использовали данную им свободу, чтобы действовать вопреки воле Бога и собственной природе. Так появилось зло.
Читать далее4. Люди и демоны: кто сильнее?
Сатана одновременно отрицает Божие творение и желает обладать им. Поэтому в отношении человека, который являет образ Божий в сотворённом мире, и так же, как Бог, обладает способностью творить, он испытывает зависть. Сам страдая в удалении от Бога, сатана стремится ввергнуть в то же состояние и человека.
Читать далееИграем
Существует ли общее мнение об ангелах?
Недоумеваем
Удивляемся


Можно ли общаться с ангелами?
Поскольку ангелы нематериальны, нет никакого научно-технологического способа вступить с ними в контакт. Общение в духовной сфере носит интуитивный, нравственно-окрашенный характер. Делая шаги к Богу, человек тем самым становится ближе и к добрым ангелам, у которых «бывает радость» о каждом человеке, избравшем добро (Лк. 15:10). Но Библия и весь опыт Церкви свидетельствуют о том, что легкомысленность человека в стремлении прикоснуться к духовному миру опасна: «Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Для того чтобы не быть обманутым злом, следует довериться Богу (ср. 1 Пет. 5:9). «Не всякому духу верьте, — призывает людей апостол Иоанн, — но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4:1).
Вера, праведная жизнь и духовная опытность открывают перед человеком Божий дар «различения духов» (1 Кор. 12:10), то есть делают его способным на интуитивном уровне узнавать присутствие зла даже тогда, когда оно рядится в светлые одежды. Через Церковь плодами этого дара могут пользоваться и те, кто ещё не имеет его на личном уровне. В Церкви с древних времён существует традиция почитания ангелов: тех, чьи имена сообщает нам Священное Писание, а также ангелов-хранителей. Мы можем обращаться к ним в молитве и получать через них Божию помощь и защиту.
Почему Бог просто не уничтожил диавола?
Бог охватывает Своей любовью всё творение, в том числе и диавола. Сатана страдает и заставляет страдать других не потому, что его тоже ненавидят, а потому что его любят, а он эту любовь отрицает. Решение сатаны отвернуться от Бога — это печальный, но законный плод данной ему свободы. Диавол — не столько первопричина зла, сколько первая его жертва. Всякий свободный выбор не в пользу Божией любви сопоставим с падением сатаны; он происходит сам по себе, вне непосредственной связи с диаволом. Сатана — это не имя собственное, а своего рода первый порядковый номер с ряду тех, кто поступил подобно ему. Исчезни он — первым станет другой. Даже если бы не было падших ангелов, наличие свободной воли могло бы стать основанием для злого выбора у любого, кто этой волей наделён.
Известный богослов IV века Константинопольский епископ Иоанн Златоуст так рассуждает об этом: «Если же кто скажет: почему Бог не уничтожил древнего искусителя, то ответим, что и здесь Он поступил так, заботясь о нас. Если бы лукавый овладевал нами насильно, то этот вопрос имел бы некоторую основательность; но так как он не имеет такой силы, а только старается склонить нас (между тем как мы можем и не склоняться), то для чего же устранять повод к заслугам... Диавол зол для себя, а не для нас; мы же, если захотим, можем приобрести через него много и добра, конечно, против его воли».
Что такое небесная иерархия?
В Священном Писании упоминается девять «родов» ангельских существ: серафимы (см. Ис. 6:2), херувимы (см. Быт. 3:24, Ис. 36:16, Иез. 1:10 и т.д.), силы (см. Еф. 1:22), престолы, начала, господства, власти (см. Кол. 1:16, Еф. 1:21, 3:10), архангелы (см. Иуд. 1:9) и просто ангелы (см. Рим. 8:38, 1 Пет. 3:22).
Среди христианских авторов Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст и некоторые другие приводили свои списки «родов» или «чинов» ангелов. Позже все эти схемы свёл воедино анонимный христианский автор конца V века, известный под именем Псевдо-Дионисия Ареопагита. В течение долгого времени богословы отождествляли его с учеником апостола Павла Дионисием и приписывали его работам важное значение.
Учение Дионисия привлекало тем, что в нём ангельский мир представал упорядоченным и разумным. Тем не менее, многие положения Дионисия противоречат Священному Писанию. В первую очередь, это касается его убеждения, что в небесной иерархии есть деление на низших и высших ангелов, причём низшие имеют отношения с Богом не иначе, как через высших. Для христиан все эти сложные построения могут иметь разве что исторический или философский смысл. Священное Писание учит, что во Христе все люди имеют теснейшее общение с Богом и не нуждаются ни в каких дополнительных посредниках.
Серафим: эволюция образа от змея к ангелу
Упоминание о таинственных ангелах под названием серафимы встречается в трёх книгах Библии — книге Чисел, Второзаконии и книге Исаии. Пророк Исаия описывает их как человекоподобных существ с шестью крыльями: «Вокруг Него стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице своё, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Основой для образа, который использует пророк, послужили многочисленные изображения духов и божеств шумеро-аккадской мифологии. Шесть крыльев на них служили атрибутом высшей силы. Но древнееврейское слово «שָׂרָף» [сара́ф] (множественное число — «שְׂרָפִים» [серафи́м]) уходит корнями в ещё более отдалённые времена. Его первоначальное значение — змея. Например, «сарафом» называется медный змий, которого по библейскому рассказу воздвиг в пустыне Моисей (Чис. 21 гл.). При этом и ядовитые змеи, жалившие израильтян в пустыне, тоже именуются «сарафами»! В переносном значении этим словом называли длинную молнию — «небесного змея», «духа грозы». Постепенно он всё более «очеловечивался», пока не принял того «вида», какой можно наблюдать на средневековых иконах и фресках. Конечно, все эти «ноги», «лица», «крылья» — лишь образы, призванные передать то, для чего в видимом мире нет ни слова, ни подобия.