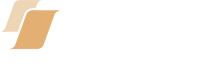4.10 Бог и я: что можно сделать вместе?
Смотрим
Читаем
1. Нужны ли мы Богу?
Богу человек не просто небезразличен: Он любит людей, причём не человечество в целом, а каждого человека в отдельности. В отношении Бога человек принципиально отличается от всего остального сотворённого мира. Он не просто творение Божие, он несёт в себе Его образ и подобие. Глядя на людей, Бог узнаёт в нас Свои черты.
Читать далее2. Сколько значений у слова «вера»?
Слово «вера» имеет различные значения. Библия использует этот термин как базовый принцип отношений между Богом и человеком. Вера в Бога для человека не есть доверительное подчинение себя чему-то совершенно внешнему. Решая следовать своему призванию, которое подразумевает сходство с Богом, человек делает шаги на пути к собственному счастью.
Читать далее3. Можно ли научиться верить?
С чего же начинается вера? Делает ли Творец первый шаг в диалоге с человеком, или же Он ждёт, пока сам человек проявит свою свободную волю и начнёт искать Его?
Читать далее4. Как узнать настоящую веру?
Человеку свойственно ошибаться в своих мыслях и поступках, и поиски Бога — не исключение. Как же можно понять, что путь, по которому мы идём, ведёт к Богу?
Читать далееИграем
Какие поступки приближают к Богу?
Недоумеваем
Удивляемся


Что такое синергия?
Словом «синергия» (от греческого «συνεργία» [сюнэрги́а / синерйи́а], «совместное действие») в православном богословии называется совместное действие свободной человеческой воли и силы Божией, направленное на благо человека. Один из основателей христианского монашества Макарий Египетский (IV в.) образно описывает это как взаимодействие матери и ребёнка, который учится ходить: ребёнок ищет мать, тянется к ней, но не может идти сам; в ответ она помогает ему подняться и поддерживает его желание идти к ней; при том хотя бы какие-то усилия малыш должен предпринимать и сам, не потому, что иначе мать его оставит, но потому, что так он учится ходить.
Бог создал человека способным понимать Его замысел и участвовать в Его творчестве. «Мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9), — пишет апостол Павел. Соработничество Бога и человека — это не сотрудничество с некоей внешней силой, а следование тому принципу, который заложен в саму природу человека. Можно сказать, что это подлинное раскрытие собственных возможностей. Однако такое раскрытие предполагает наличие нравственного вектора, ведь речь идёт не о безличной силе, а о даре Бога, который в принципе не может служить злу. «Дело Бога — предложить Свою благодать, — пишет богослов V века епископ Кирилл Иерусалимский, — дело человека — принять и хранить эту благодать».
Может ли эгоист быть христианином?
Обычно под эгоизмом (от латинского «ego» — «я») понимают такое устроение жизни человека, при котором он превыше всего ставит своё собственное благо, не учитывая при этом интересы окружающих. Стремление к благу заложено в человеческой природе. Бог в Своих заповедях предлагает человеку ориентироваться на любовь к себе самому: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39), «ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними» (Лк. 6:39).
Поддерживая человека в стремлении к счастью, Священное Писание предупреждает об опасностях на этом пути. Чтобы не принести себе вред, человеку не следует удовлетворять менее важные свои потребности в ущерб более важным. Вряд ли разумно откусить себе палец, чтобы унять голод. На верху этой пирамиды ценностей внутри человека, согласно христианскому пониманию, находится то, что в нас важнее всего, — образ Божий, который в сочетании с нашей индивидуальностью составляет наше подлинное «я». Состояние, при котором человек ставит выше всего в своей жизни волю Бога, запечатлённую в его сердце как образ Божий, называется в Писании «Царством Божиим», или «Царством Небесным». Объясняя, как соотносятся подлинное «я» и все прочие потребности человека, Иисус Христос говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33). Он не говорит: «Ищите Царства Божия, и прочее станет вам не нужно», — поскольку стремление к Богу не только не обесценивает иных благ в жизни человека, но и умножает их, придаёт им новый смысл, делает их ценнее, ведь именно в Боге — источник всякого блага.
В жизни нередко возникает конфликт между тем, что человек считает своей пользой, и заповедью Божией. Важно помнить, что это конфликт не столько между Богом и человеком, сколько между его подлинным «я» и его же менее важными потребностями. В таком противостоянии благо человека требует от него сделать выбор в пользу более важного, отвернуться от ложного себя ради себя настоящего. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, — говорит Иисус Христос, — а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её; какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:25–26). «Что значит погубление души? — поясняет эти слова русский святой XIX века Игнатий Брянчанинов. — Отвержение действий по собственным чувствам и понуждение себя к действию по заповедям евангельским». Всякий раз, когда мы доверяем Богу больше, чем собственным представлениям, мы теряем себя заблуждающихся, чтобы обрести себя подлинных.
Что такое добрые дела?
Священное Писание настаивает, что основа христианского пути — доверие Богу. «Человек оправдывается верою» (Рим. 3:28). Однако также в Библии утверждается, что «как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Христианский мир знал немало споров о том, как согласовать эти антиномичные утверждения.
Противоречие оказывается мнимым, если вспомнить библейское значение слова «вера». Это не теоретическое признание того, что Бог есть, а доверие человека воле Бога в мире и в самом себе. Стоит человеку предпочесть заповедь Божию своему интересу, как он получает возможность взглянуть на окружающее по-иному и действовать соответственно. Это углубляет его доверие Богу, что, в свою очередь, подталкивает человека к новым делам.
Конечно, даже те, кто не знают Бога, могут творить добро. Но незнание человеком своего Творца — вещь относительная; на уровне опыта и интуиции Он хотя бы в небольшой степени известен каждому. «Дело закона, — пишет апостол Павел, — у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15). Однако без более определённых знаний о Боге человеческому добру труднее принести свой главный плод — возрастание в вере, которое даёт добру новую мотивацию и силу.
Христос и совесть
Московский священник Алексей Мечёв, при советском режиме принявший мученическую кончину за свои убеждения, так писал о восстановлении человеческой совести Иисусом Христом:
«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестью, а она есть естественный закон...
Но когда люди через грехопадение зарыли и попрали её (совесть), тогда сделался нужен закон написанный, стали нужны святые пророки, нужным сделалось самое пришествие Владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть её (совесть); чтобы засыпанную оную искру снова возжечь хранением святых Его заповедей.
Так же в Новом Завете. Вначале ученики Христовы не имели писаного закона и только под конец своей жизни записали Евангелие и составили Послания. Некоторые же из христиан узнали закон Божий не только не из Священного Писания, но даже и не из устного предания. Сам Господь в сердце их, в совести их открыл им Благую Весть. Так было с апостолом Павлом, который никогда не видел Господа на земле, не слышал проповеди Его непосредственных учеников и апостолов почти до конца своей жизни…
Дело Христово состояло в том, что Он восстановил в человеке совесть, возжёг искру, попранную и зарытую. Совесть связана в нас непосредственно с образом Божиим, и как он в нас растлился и нуждался в восстановлении, так и совесть. Христос пришёл на землю для того, как учит Церковь, чтобы восставить образ падшего праотца и вместе с тем восстановить, возжечь в нас искру совести».